Когда я с нарастающей благодарностью отказалась и от чая, и от кофе, и от еды, и от просмотра арабского музыкального канала, Батуль проводила меня в мою комнату. Чуть мерцающая лампочка осветила серовато-розовые простыни с «губкой Бобом» и наспех покиданные в картонный ящик игрушки, и я поняла, что ради меня из комнаты выселили младших детей.
— Этот комната Рагат и Хамса? — подбирая слова, спросила я.
Батуль махнула рукой и ответила по-английски.
— Теперь они будут спать со мной. Надеюсь, тебе понравится в Иордании. Ты здесь никого не знаешь, но в Иордании — хорошие люди.
Батуль, конечно, и в голову не могло прийти, что она ошибалась. И хотя я очень долго не могла заснуть, ворочаясь на узкой детской кровати, и то и дело вскакивая, чтобы стряхнуть с себя муравьев, пока еще оставались силы, и вздергивая руками, когда их уже не стало; и хотя все прошедшее за теперь уже бесконечно долгий день — растянувшийся от такси с севера Москвы в аэропорт Домодедово, через пять часов первого перелета, через раскрывшуюся на моем пути, словно лилия посреди ночного бархата, Белую Мечеть в Абу-Даби, через еще один перелет, и до самой дороги от аэропорта до нового дома, когда я смотрела в окно, пытаясь понять, как страницы из учебников истории и статей на википедии раскладываются по городским пейзажам этого нового города — все это казалось теперь смутной дымкой, витающей передо мной в светлом воздухе нового дня, пока я, уже полупровалившись в сон, но ушами и глазами все еще в сознании, слушала, как отзываются от холмов Аммана и долетают до самой моей кровати протяжные, похожие на океан, волны намаза Фаджр, от самого «Аллаху Акбар» до самого «Ассаляму аляйкум уа рахмату-ллах» — и хотя, когда в шесть-сорок пять на айфоне начал звенеть будильник, его мелодия показалась мне сначала этой детской шкатулкой, музыкальной игрушкой, которую включают на сон, чтобы он был крепче, и я перевернулась на другой бок, обняв подушку и подумав, что мой сон и без того крепок — а потом, соскочив с кровати, выбежала в коридор босиком, потому что не могла понять, где я нахожусь — несмотря на все, все, все это, я сразу узнала Марко, когда наткнулась на него в дверях школы арабского языка в Вебде.
— О, ты новая студентка? — спросил загорелый, коротко стриженый парень в брюках хаки и сережкой в ухе. — Меня зовут Марио. Я из Италии, из Милана.
— А меня зовут Рита, — ответила я, — я из Хантингтона, Западная Вирджиния.
«Марио», — отметила я про себя.
— Этот комната Рагат и Хамса? — подбирая слова, спросила я.
Батуль махнула рукой и ответила по-английски.
— Теперь они будут спать со мной. Надеюсь, тебе понравится в Иордании. Ты здесь никого не знаешь, но в Иордании — хорошие люди.
Батуль, конечно, и в голову не могло прийти, что она ошибалась. И хотя я очень долго не могла заснуть, ворочаясь на узкой детской кровати, и то и дело вскакивая, чтобы стряхнуть с себя муравьев, пока еще оставались силы, и вздергивая руками, когда их уже не стало; и хотя все прошедшее за теперь уже бесконечно долгий день — растянувшийся от такси с севера Москвы в аэропорт Домодедово, через пять часов первого перелета, через раскрывшуюся на моем пути, словно лилия посреди ночного бархата, Белую Мечеть в Абу-Даби, через еще один перелет, и до самой дороги от аэропорта до нового дома, когда я смотрела в окно, пытаясь понять, как страницы из учебников истории и статей на википедии раскладываются по городским пейзажам этого нового города — все это казалось теперь смутной дымкой, витающей передо мной в светлом воздухе нового дня, пока я, уже полупровалившись в сон, но ушами и глазами все еще в сознании, слушала, как отзываются от холмов Аммана и долетают до самой моей кровати протяжные, похожие на океан, волны намаза Фаджр, от самого «Аллаху Акбар» до самого «Ассаляму аляйкум уа рахмату-ллах» — и хотя, когда в шесть-сорок пять на айфоне начал звенеть будильник, его мелодия показалась мне сначала этой детской шкатулкой, музыкальной игрушкой, которую включают на сон, чтобы он был крепче, и я перевернулась на другой бок, обняв подушку и подумав, что мой сон и без того крепок — а потом, соскочив с кровати, выбежала в коридор босиком, потому что не могла понять, где я нахожусь — несмотря на все, все, все это, я сразу узнала Марко, когда наткнулась на него в дверях школы арабского языка в Вебде.
— О, ты новая студентка? — спросил загорелый, коротко стриженый парень в брюках хаки и сережкой в ухе. — Меня зовут Марио. Я из Италии, из Милана.
— А меня зовут Рита, — ответила я, — я из Хантингтона, Западная Вирджиния.
«Марио», — отметила я про себя.
Не проходит и дня, как мы с Марио уже знаем друг про друга все, а со второго дня — официально лучшие друзья. Он называет меня «маленькая коммунистическая панда», а я его — «бывший финансист». В каком-то смысле наши истории очень похожи, хотя Марио уже за тридцать пять, а мне пока за двадцать.
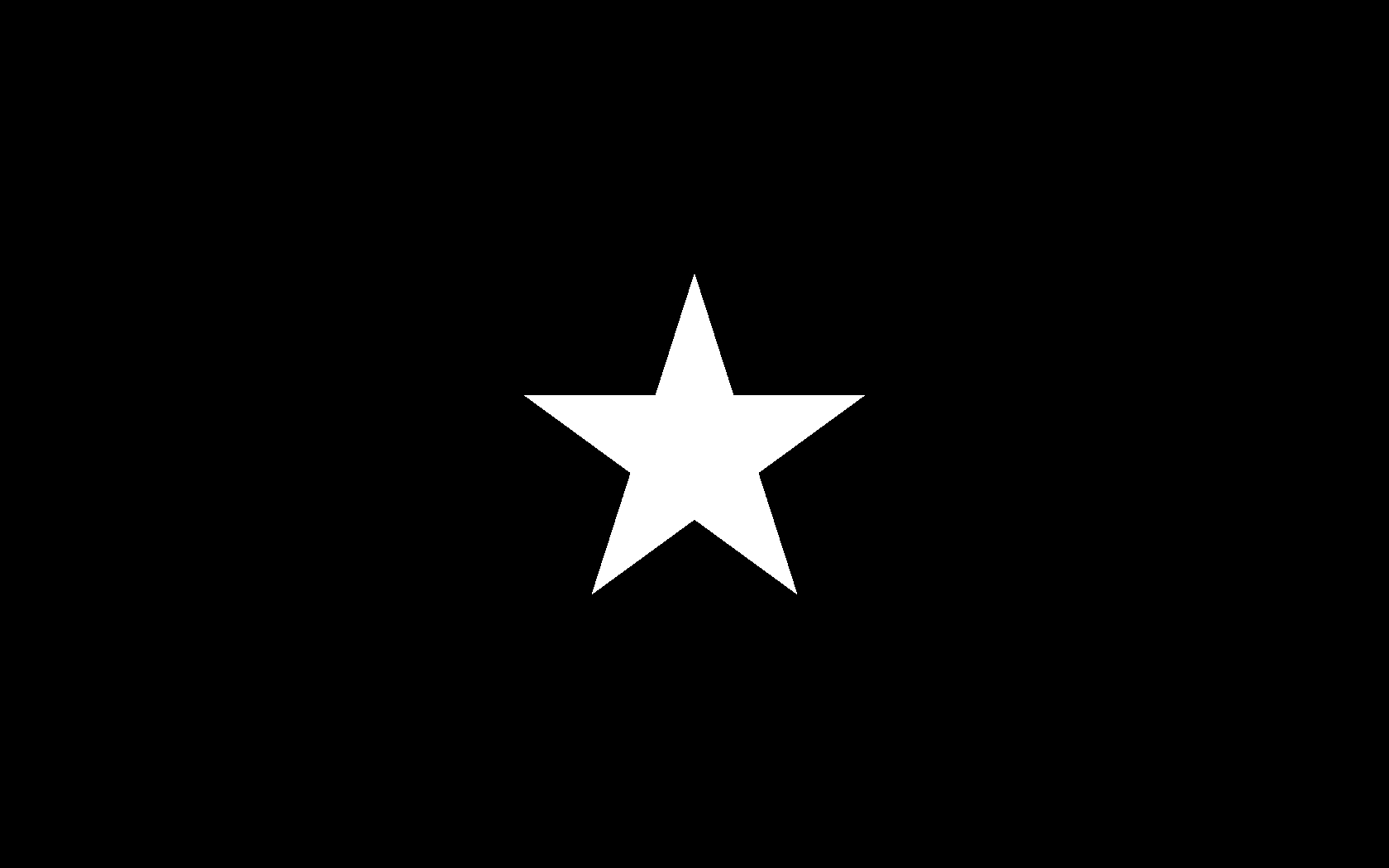
Марио двенадцать лет проработал в консалтинге, и бросил, а я из семьи хиппи, где «консалтинг» — страшное слово, в компании с которым обычно приходят «капитализм» и «корпорации». Этим летом мы оба оказались в Иордании в школе арабского языка: Марио — потому что он хочет способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке и прекращению вмешательства Запада в политику региона, а я — потому что мои родители считают, что это должна сделать я. Марио считает, что за органическую еду мы переплачиваем в три раза, а я в Иордании как в раю потому что здесь в ходу все то, чего я в своей органической веганской семье не видела годами: батончики «Сникерс», бесконечная «Пепси» и чипсы без ограничений. Я живу в арабской семье душа в душу с тремя детьми в возрасте от семи до семнадцати, с которыми мы каждый вечер скидываемся по динару и покупаем на всех огромный пакет того, что родители называли «эта химия добьет мир»; Марио живет в одной квартире с учителем Эльясом из Египта, с которым он каждый вечер обсуждает политическую ситуацию на Ближнем Востоке.
Но самое главное, Марио хочет стать писателем, а я вечно попадаю в разные истории. Любую из них, говорит мой друг, можно переделать в рассказ, и я щедро делюсь ими с будущим голосом юга Италии. На самом деле, он даже не осознает, что я придумываю их на ходу. Но этого я ему не говорю. Когда тебе двадцать, можно постоянно притворяться, что ты еще ничего не понимаешь и веришь во все, что сказано вслух. И даже когда тебе не двадцать, можно легко имитировать все, что угодно — американский акцент, придуманные истории, сумасшедшую семью, искренний тон и даже свою личность — совсем не ту, которая проходит за тебя паспортный контроль. И если даже кому-то вдруг надо знать больше — это ничего страшного. Люди добры в таких вещах. Люди готовы поверить во все, что ты им скажешь — где ты живешь, почему не живешь там, где родилась, и даже почему не хочешь использовать свое «старое» имя — «потому что оно из той жизни, которой я не помню и к которой не принадлежу, и сейчас я — совсем другой человек». Люди готовы хранить такие простые секреты, если их просить об этом, и я прошу очень часто.
И поэтому для всех здесь я — Рита.
Но самое главное, Марио хочет стать писателем, а я вечно попадаю в разные истории. Любую из них, говорит мой друг, можно переделать в рассказ, и я щедро делюсь ими с будущим голосом юга Италии. На самом деле, он даже не осознает, что я придумываю их на ходу. Но этого я ему не говорю. Когда тебе двадцать, можно постоянно притворяться, что ты еще ничего не понимаешь и веришь во все, что сказано вслух. И даже когда тебе не двадцать, можно легко имитировать все, что угодно — американский акцент, придуманные истории, сумасшедшую семью, искренний тон и даже свою личность — совсем не ту, которая проходит за тебя паспортный контроль. И если даже кому-то вдруг надо знать больше — это ничего страшного. Люди добры в таких вещах. Люди готовы поверить во все, что ты им скажешь — где ты живешь, почему не живешь там, где родилась, и даже почему не хочешь использовать свое «старое» имя — «потому что оно из той жизни, которой я не помню и к которой не принадлежу, и сейчас я — совсем другой человек». Люди готовы хранить такие простые секреты, если их просить об этом, и я прошу очень часто.
И поэтому для всех здесь я — Рита.
Марио — красавчик. Это не столько про внешность, сколько про тип характера. Когда он сидит на порыжевшем диване в летнем саду нашей школы, сосредоточенно накручивая кусочек питы в тарелке с хумусом, все тарелки с бабаганушем и омлетом, над которыми он проносит свою питу, покрываются сеточкой перекрестных взглядов девушек, которым не удалось сегодня сесть поближе к славному итальянскому парню, бросившему мир денег и фальши, чтобы стать самим собой.

Я думаю, что если бы я была самой собой, и Марио бы нравился мне, то непонятно сколько дней ушло бы на то, чтобы с одного края стола до другого протянулась загадочная русско-итальянская ниточка из задумчивых взглядов, непроизнесенных вслух приветствий и приглашений выпить горячий чай, как его пьют здесь, с двумя ложками сахара на дне и веточкой мяты.
Но американская девушка Рита, Маргарита (Маргарита как пицца, не как коктейль) в двенадцать часов сорок пять минут каждый день сама стоит около термоса с чаем и громко опрашивает всех вокруг, разливая и передавая картонные стаканчики тем, кого считает своими друзьями — то есть всем подряд. Маргариту любят даже те, кто с ней незнаком — потому что никто не умеет так внимательно слушать, так быстро забывать, так громко смеяться и так искренне восхищаться и верить в то, что говорят и другие, и она сама. Маргарите всегда достаются лучший фалафель и ближайшее к кондиционеру кресло в классе. После занятий в школе она валяется на диване в зале, под единственным в доме феном, с Батуль, старшей дочерью в своей приемной арабской семье. Маргарита красит Батуль ногти в черный цвет и рассказывает, как тяжело жить подростку на западе по сравнению с Иорданией. Телевизор по часам, летом школьный лагерь и репетиторы, и друзей домой каждый день не приведешь. Батуль под ее взглядами и словами расцветает, но потом наступает вечер, и солнце Батуль заходит: Маргарита идет гулять со своими настоящими взрослыми друзьями. Батуль каждый раз кажется, что это предательство, но долго обижаться на Маргариту не удается никому, потому что, хотя даже и Батуль уже способна понять, что все эти ногти и разговорчики — как одноразовая жвачка, ее все равно хочется еще и еще. Все обожают Маргариту. Если бы я не была ею, я бы ужасно хотела ею стать.
Маргарита и Марио — лучшие друзья на три недели, что они оба живут в Иордании. Каждый вечер мы ходим пешком из Вебде в Старый город, и пока мы спускаемся с холмов Аммана вниз по разбитым старым лестницам, разукрашенным граффити, и проходим через стаи уличных кошек, мусорные баки, узкие улицы, книжные развалы, базарные ряды с черными платьями, покрытыми золотой вышивкой, золотым бисером, золотыми цветами и такими же платьями, но красными, нам всегда находится обсудить столько всего, что мы по часу не можем решиться где-нибудь сесть и поужинать; а Рита все вспоминает и вспоминает новые истории, которые с ней происходили — удивительно даже, как много может случиться с человеком за какие-то двадцать лет. Марио относится к материалу со всей ответственностью молодого писателя — то и дело записывает что-то в телефоне, а иногда останавливается и предлагает сделать селфи, чтобы запомнить момент, когда именно эта история перестала быть частью просто жизни и стала частью мира идей и будущей литературы. Я никогда не отказываюсь, потому что ни я, ни Маргарита не любим иронии: она всегда ведет или к безразличию, или к жестокости. А их и без того достаточно в каждом из нас.
На самом деле, Маргарита знает самый большой секрет Марио: что он на самом деле тоже никакой не Марио, а в паспорте у него написано: «Марко».
Но американская девушка Рита, Маргарита (Маргарита как пицца, не как коктейль) в двенадцать часов сорок пять минут каждый день сама стоит около термоса с чаем и громко опрашивает всех вокруг, разливая и передавая картонные стаканчики тем, кого считает своими друзьями — то есть всем подряд. Маргариту любят даже те, кто с ней незнаком — потому что никто не умеет так внимательно слушать, так быстро забывать, так громко смеяться и так искренне восхищаться и верить в то, что говорят и другие, и она сама. Маргарите всегда достаются лучший фалафель и ближайшее к кондиционеру кресло в классе. После занятий в школе она валяется на диване в зале, под единственным в доме феном, с Батуль, старшей дочерью в своей приемной арабской семье. Маргарита красит Батуль ногти в черный цвет и рассказывает, как тяжело жить подростку на западе по сравнению с Иорданией. Телевизор по часам, летом школьный лагерь и репетиторы, и друзей домой каждый день не приведешь. Батуль под ее взглядами и словами расцветает, но потом наступает вечер, и солнце Батуль заходит: Маргарита идет гулять со своими настоящими взрослыми друзьями. Батуль каждый раз кажется, что это предательство, но долго обижаться на Маргариту не удается никому, потому что, хотя даже и Батуль уже способна понять, что все эти ногти и разговорчики — как одноразовая жвачка, ее все равно хочется еще и еще. Все обожают Маргариту. Если бы я не была ею, я бы ужасно хотела ею стать.
Маргарита и Марио — лучшие друзья на три недели, что они оба живут в Иордании. Каждый вечер мы ходим пешком из Вебде в Старый город, и пока мы спускаемся с холмов Аммана вниз по разбитым старым лестницам, разукрашенным граффити, и проходим через стаи уличных кошек, мусорные баки, узкие улицы, книжные развалы, базарные ряды с черными платьями, покрытыми золотой вышивкой, золотым бисером, золотыми цветами и такими же платьями, но красными, нам всегда находится обсудить столько всего, что мы по часу не можем решиться где-нибудь сесть и поужинать; а Рита все вспоминает и вспоминает новые истории, которые с ней происходили — удивительно даже, как много может случиться с человеком за какие-то двадцать лет. Марио относится к материалу со всей ответственностью молодого писателя — то и дело записывает что-то в телефоне, а иногда останавливается и предлагает сделать селфи, чтобы запомнить момент, когда именно эта история перестала быть частью просто жизни и стала частью мира идей и будущей литературы. Я никогда не отказываюсь, потому что ни я, ни Маргарита не любим иронии: она всегда ведет или к безразличию, или к жестокости. А их и без того достаточно в каждом из нас.
На самом деле, Маргарита знает самый большой секрет Марио: что он на самом деле тоже никакой не Марио, а в паспорте у него написано: «Марко».
Об авторе
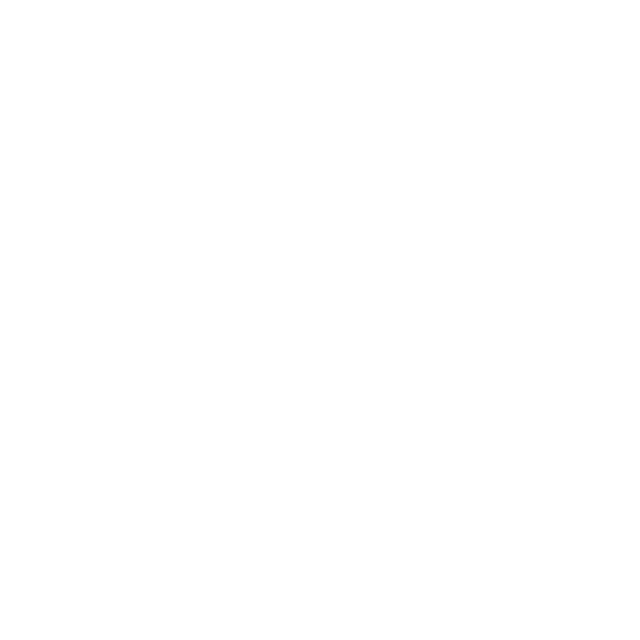
Ольга Брейнингер
Писатель, литературный антрополог, PhD
Писатель, литературный антрополог, PhD
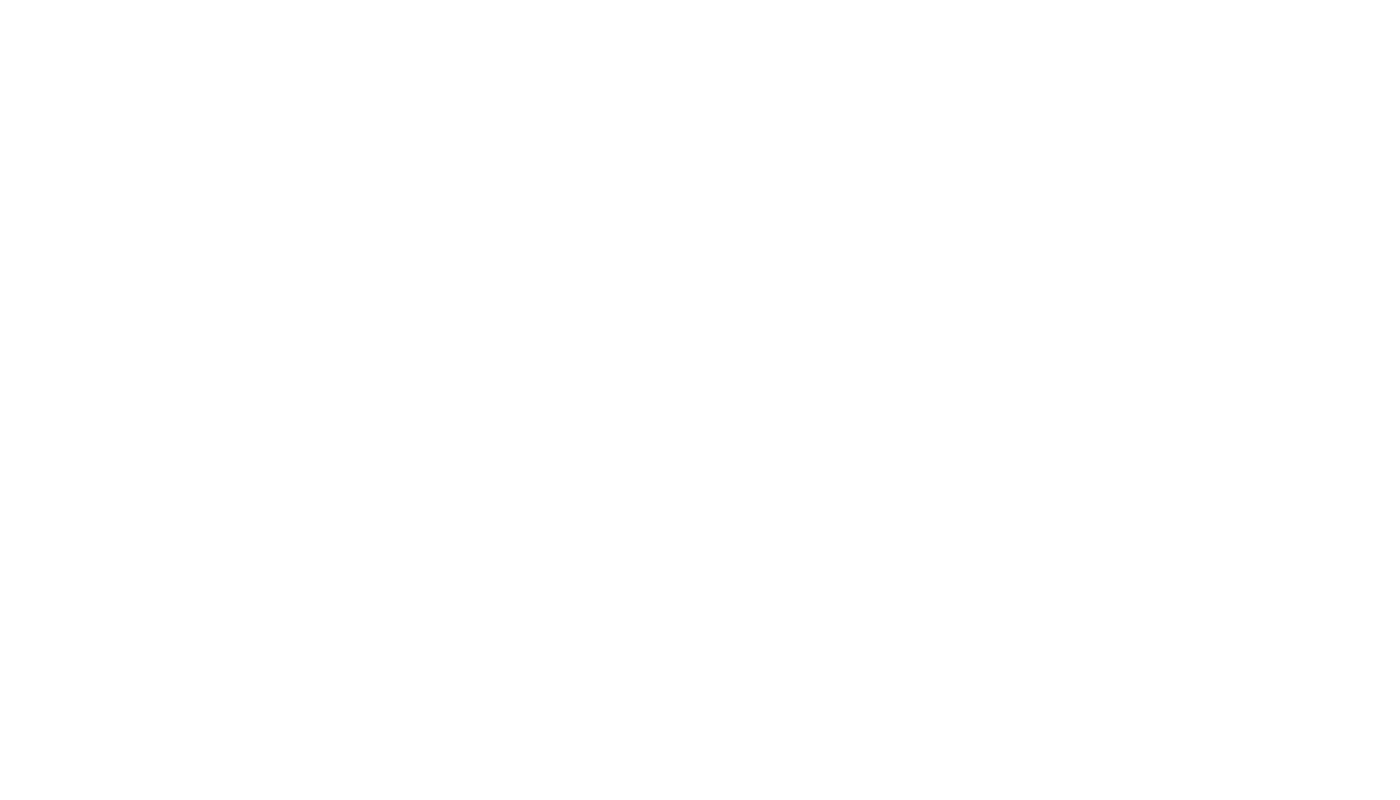
У Марко — сложная история
В юные годы своей жизни он был обычным школьным задротом. Любил экспериментальную физику, читать научно-популярные книжки и спорить о чем угодно, лишь бы переспорить собеседника. По окончанию школы Марко, единственный из всех своих ровесников, поехал по специальной стипендии учиться в Милан, где следующие четыре года провел приблизительно так же, а на пятый его оторвали с руками — работать в компании мечты каждого итальянского выпускника. И в принципе, будь Марко чуть-чуть менее умным или, может, везучим, вся его жизнь сложилась бы немного проще и немного скучнее. Он бы переходил с одной ступеньки карьерной лестницы на другую, и постепенно бы становился взрослее, циничнее, приземленнее и печальнее, как это обычно бывает. Но Марко очень повезло, и через год в его компании совпали две счастливые звезды — освободившаяся вакансия, которая была ему выше головы, и новая кадровая политика по продвижению молодых экспертов.
И Марко полетел — вверх и вниз. Внезапно большие деньги для мальчика из семьи трамвайных рабочих, совершенно новые люди, поездки то в Монако, то в Бейрут, постоянные внеурочные, нескончаемые ночные клубы, невозможность заводить постоянные знакомства и поэтому временные друзья, временные женщины, временные дома и временные страсти; коктейли в rooftop барах стоимостью с недельный бюджет местных семей, из чьих стран компании, на которые работала компания Марко, выкачивала нефть, не оставляя им ровным счетом ничего — все это ослепило, оглушило и очаровало его.
— Ты знаешь, — признается мне Марио, — первый год я провел в офисе какого-то хрустального заводика в чешской Моравии, рассчитывая день за днем цифры по формулам и работая по шестнадцать часов в день за одним и тем же столом, пока рубашка под пиджаком не пропитывалась потом, как ледяная простыня, а воротничок не впивался в перегретую шею. А потом, когда меня вдруг повысили до руководителя филиала, и сразу перебросили на проект в Африку — у меня, честное слово, как крышу снесло. Рита… Это была вообще другая жизнь. Мне казалось, что у меня есть все, я самый лучший, самый везучий, самый умный. Раз в месяц я летал в Италию, в Милан, а родителям покупал билеты на поезд, чтобы они могли приезжать тоже и жить в моей квартире на выходных. Папа смотрел футбол на моем огромном телеке, мама готовила все, что я любил в детстве, а я приходил вечером домой, долго выпендривался и рассказывал, что за вино мы пьем на этот раз, и вещал молчаливым родителям про дела компании, пока мама сидела, сложив руки на колени, и смотрела на меня умиленным взглядом. Потом я перестал приезжать домой, потому что это стало слишком скучно. У нас там была корпоративная вилла в компаунде в Луанде — и вот я каждый день приходил в эту квартиру как в ночной клуб. На улице плюс сорок пять, дома — плюс восемнадцать, девочки в меховых, знаешь, таких штучках, поверх вечерних платьев, музыка, стриптизерши и куча алкоголя. Мы столько там пили, ты даже не представляешь. Ну, не только пили. Короче, иногда выходишь на террасу — а хата была роскошная, вид на весь город, как на ладони, — просто чтобы вспомнить, что пока ты в раю, на улице дышать невозможно — и стоишь специально, пока не появится ощущение, что вот-вот под пиджаком взорвешься — а потом закрываешь за собой стеклянную дверь, наливаешь виски, бросаешь один кубик льда, и думаешь: «Боже, как мне повезло в этой жизни».
— Один раз про меня написали в местной газете, опубликовали фото с пресс-конференции в честь открытия нового проекта нашей компании, и на первой странице — мое фото с министром каким-то там. Мне тогда казалось, что меня знает все, все, весь мир. Я купил экземпляров двести, приехал домой, и бросал их по одной с балкона, заставляя девушек делать ставки на то, в какую сторону унесет меня ветер. Если они проигрывали — должны быть раздеваться и оборачиваться страницей с моей фотографией. И вот там куча девчонок, все как на подбор, белые, черные, мулатки, губастые, на каблуках, босиком — и все с моим портретом на груди.
— Потом, когда меня из Африки вернули назад в Италию, я уже немножко стал осознавать, что нефигово зажрался и зазнался. Но меня еще раз повысили, дела шли, о чем было думать. А потом… потом уже появилась Влада. Это было в Польше, значит, год на пятый. Ее звали Влада. Мы с ней познакомились в этом городе… блин, забыл, как называется, красивый такой, на реке еще стоит… Короче, там есть такой бар на набережной, где из мужчин одни экспаты, а из девушек половина хочет влюбиться, а половина — выйти замуж за иностранца. И вот я не спал уже часов сорок, пью из них как минимум восемь, убитый в хлам, ничего не хочу, и думаю — окей, пора спать. Решил, что пора. Потом забыл. Потом через час снова вспомнил — нет уж, думаю, вот теперь точно пойду. И вот я как-то пробираюсь на выход, но почему-то оказываюсь около барной стойки, и немножко так, ну не падаю, а как бы опираюсь на нее, и вдруг — вдруг вижу, что лежу на полу, а надо мной стоит девушка и смотрит испуганно. Это вот Влада и была.
И Марко полетел — вверх и вниз. Внезапно большие деньги для мальчика из семьи трамвайных рабочих, совершенно новые люди, поездки то в Монако, то в Бейрут, постоянные внеурочные, нескончаемые ночные клубы, невозможность заводить постоянные знакомства и поэтому временные друзья, временные женщины, временные дома и временные страсти; коктейли в rooftop барах стоимостью с недельный бюджет местных семей, из чьих стран компании, на которые работала компания Марко, выкачивала нефть, не оставляя им ровным счетом ничего — все это ослепило, оглушило и очаровало его.
— Ты знаешь, — признается мне Марио, — первый год я провел в офисе какого-то хрустального заводика в чешской Моравии, рассчитывая день за днем цифры по формулам и работая по шестнадцать часов в день за одним и тем же столом, пока рубашка под пиджаком не пропитывалась потом, как ледяная простыня, а воротничок не впивался в перегретую шею. А потом, когда меня вдруг повысили до руководителя филиала, и сразу перебросили на проект в Африку — у меня, честное слово, как крышу снесло. Рита… Это была вообще другая жизнь. Мне казалось, что у меня есть все, я самый лучший, самый везучий, самый умный. Раз в месяц я летал в Италию, в Милан, а родителям покупал билеты на поезд, чтобы они могли приезжать тоже и жить в моей квартире на выходных. Папа смотрел футбол на моем огромном телеке, мама готовила все, что я любил в детстве, а я приходил вечером домой, долго выпендривался и рассказывал, что за вино мы пьем на этот раз, и вещал молчаливым родителям про дела компании, пока мама сидела, сложив руки на колени, и смотрела на меня умиленным взглядом. Потом я перестал приезжать домой, потому что это стало слишком скучно. У нас там была корпоративная вилла в компаунде в Луанде — и вот я каждый день приходил в эту квартиру как в ночной клуб. На улице плюс сорок пять, дома — плюс восемнадцать, девочки в меховых, знаешь, таких штучках, поверх вечерних платьев, музыка, стриптизерши и куча алкоголя. Мы столько там пили, ты даже не представляешь. Ну, не только пили. Короче, иногда выходишь на террасу — а хата была роскошная, вид на весь город, как на ладони, — просто чтобы вспомнить, что пока ты в раю, на улице дышать невозможно — и стоишь специально, пока не появится ощущение, что вот-вот под пиджаком взорвешься — а потом закрываешь за собой стеклянную дверь, наливаешь виски, бросаешь один кубик льда, и думаешь: «Боже, как мне повезло в этой жизни».
— Один раз про меня написали в местной газете, опубликовали фото с пресс-конференции в честь открытия нового проекта нашей компании, и на первой странице — мое фото с министром каким-то там. Мне тогда казалось, что меня знает все, все, весь мир. Я купил экземпляров двести, приехал домой, и бросал их по одной с балкона, заставляя девушек делать ставки на то, в какую сторону унесет меня ветер. Если они проигрывали — должны быть раздеваться и оборачиваться страницей с моей фотографией. И вот там куча девчонок, все как на подбор, белые, черные, мулатки, губастые, на каблуках, босиком — и все с моим портретом на груди.
— Потом, когда меня из Африки вернули назад в Италию, я уже немножко стал осознавать, что нефигово зажрался и зазнался. Но меня еще раз повысили, дела шли, о чем было думать. А потом… потом уже появилась Влада. Это было в Польше, значит, год на пятый. Ее звали Влада. Мы с ней познакомились в этом городе… блин, забыл, как называется, красивый такой, на реке еще стоит… Короче, там есть такой бар на набережной, где из мужчин одни экспаты, а из девушек половина хочет влюбиться, а половина — выйти замуж за иностранца. И вот я не спал уже часов сорок, пью из них как минимум восемь, убитый в хлам, ничего не хочу, и думаю — окей, пора спать. Решил, что пора. Потом забыл. Потом через час снова вспомнил — нет уж, думаю, вот теперь точно пойду. И вот я как-то пробираюсь на выход, но почему-то оказываюсь около барной стойки, и немножко так, ну не падаю, а как бы опираюсь на нее, и вдруг — вдруг вижу, что лежу на полу, а надо мной стоит девушка и смотрит испуганно. Это вот Влада и была.


